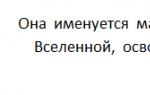О мнимой смерти человека в постмодернизме. Постмодернизм умер, а история продолжается. Недолгий век постмодернизма
“СМЕРТЬ СУБЪЕКТА”
Презумпция-метафора постмодернистской философии, при помощи которой характеризуется осуществление программы преодоления классического принципа бинаризма (см.). Идея “С. С.” демонстрирует отказ постмодернистского типа философствования от презумпции субъекта в любых версиях его содержательной трактовки.
Термин “С. С.” был введен в философский оборот М. Фуко (см.) в книге “Слова и вещи” (см.) и несколько позднее - был в контексте текстологии постмодерна специфицирован как “смерть автора” Р Бартом (см.) в его одноименной работе (1968).
Концепт “С. С.” являет собой наиболее показательный пример перехода от философского и художественного модернизма (см.) к культуре постмодернистского типа. Классическая культура Запада была фундирована предельным объективизмом, в свою очередь максимальный личностно-субъективистский пафос нашел свое воплощение в художественном модернизме. Так Г де Тор- ре провозглашал: “Я сам, Ты сам, Он сам. Так, отринув множественное число, станем читать молитву Ячества. Единственные. Невписанные. Неповторимые. А главное - упорно держащиеся за свое Я, которому нет и не будет равных... Я Сам себе причина. Сам себе критик. Сам себе предел... Я утверждаю высоту и незаменимость Ячества, которое было и будет первой из духовных добродетелей новатора и бунтаря”
В свою очередь, в рамках постмодернизма феномен Субъекта, как и его генезис в статусе философской проблемы осмысливаются в качестве проблематичного. Так, Ю. Кристева (см.) считает возможным говорить лишь о “проблематичном процессуальном субъекте языка” М. Фуко в “Герменевтике субъекта” сформулировал три базовых вопроса постмодернистского философствования: “вопрос об истинности субъекта”, “вопрос о структуре истинности субъекта”, а также проблему “способа” посредством которого данные вопросы “встали на повестку дня” Само использование термина “Субъект”, с точки зрения Фуко, есть не более чем дань классической философской традиции: анализ Субъекта на деле есть анализ “условий, при которых возможно выполнение неким индивидом функции субъекта. И следовало бы еще уточнить, в каком поле субъект является субъектом и субъектом чего: дискурса, желания, экономического процесса и так далее. Абсолютного субъекта не существует”
Как познавательные, так и социальные проекты, предлагаемые постмодернизмом, фундированы идеей отказа от самого концепта “Субъект” Так, например, Фуко в качестве условия реализации гносеологической программы своей генеалогии провозгласил необходимость “принесения в жертву субъекта познания” Как отметил Фуко, “в наши дни мыслить можно лишь в пустом пространстве , где уже нет человека (выделено мной. - А. Г.). Пустота эта не означает нехватки и не требует заполнить пробел. Это есть лишь развертывание пространства, где наконец-то можно снова начать мыслить”
Место субъекта занимает в постмодернизме то, что Делёз определил как “безличное... поле, не имеющее формы синтетического сознания личности или субъективной самотождественности”, а место Я - то, что постмодернизм (“от Батая до Клоссовски”) обозначает как “вакацию (от лат. vacatio - освобождение, здесь в значении: “элиминирование” - А. Г.) Я - того Я, чья вакация испытывается в сознании, которое, не будучи ни в коей мере Я, само по себе есть его вакация” Философско-социологическую проблему определенности субъектов-носителей социальных ролей постмодернизм осмысливает в статусе преходящих версий самоидентификации. Согласно философии эпохи постмодерна, последние обычно вербально артикулированы и не выходят за границы существующих нарративных практик. Социальные роли в таком контексте есть не что иное, как маски, присутствие которых отнюдь не гарантирует наличия скрытого за ними Я, претендующего на статус идентичности. По мысли Фуко, “поскольку эта идентичность, впрочем, довольно слабая, которую мы пытаемся застраховать и спрятать под маской, сама по себе лишь пародия: ее населяет множественность, в ней спорят несметные души; пересекаются и повелевают друг другом системы... И в каждой из этих душ история откроет не забытую и всегда готовую возродиться идентичность, но сложную систему элементов, многочисленных в свою очередь, различных, над которыми не властна никакая сила синтеза”
В русле идеи “С. С. для постмодернизма оказывается показателен тезис о непреодолимом разрыве опыта как такового, с одной стороны, и носителя дискурса, посредством которого этот опыт может быть выражен, - с другой. Барт демонстрирует в тексте “Фрагменты любовного дискурса” что опыт, который декларируется в качестве значимого внутреннего, на самом деле выступает как принципиально спекулятивный. В качестве примера Бартом приводится ситуация так называемой “безумной любви”: “Безумие. (Я схожу с ума). Это значит, что я безумен для того, чтобы пребывать в любви, но я отнюдь не безумен для того, чтобы сказать об этом, я раздваиваю свой образ”
Рациональный Субъект, по Р Декарту, равно как и “желающий” Субъект, изобретенный 3. Фрейдом, сменяются в постмодернизме “децентрированным” орудием презентации культурных смыслов (“означающих”) языка (Ю. Кристе- ва). Согласно Кристевой, “говорящий субъект” являет собой “субъекта в процессе” и, как следствие, “смерть человека” выступает его растворением в де- терминационных воздействиях на индивидуальное сознание со стороны структур языка и различных дискурсивных практик. Более того, по мысли Ж. Деррида (см.), “интерпретирующее Я” само по себе есть не более чем текст, сотканный из “культурных универсалий и дискурсивных матриц, культурных кодов и интерпретационных конвенций”
Идея “С. С.” примыкает к постмодернистским аналитикам трансгрессии (см.). Так, по словам М. Бланшо (см.), “никогда Я не было субъектом опыта” а трансгрессивный опыт оценивается им как “то, чего ни одно существующее не может достигнуть в первом лице”
Отказ от концепта “Субъект” во многом связан с признанием философией постмодернизма случайности феномена Я. Как отмечал Ж. Батай (см.), “возможность моего Я в конечном счете, безумная недостоверность”
Аналогично, осмысливая предложенную П. Клоссовски (см.) трактовку индивидуальности как “непредвиденного случая” Делёз подчеркнул, что “индивидуальность должна осознать себя как событие, а осуществляющееся в себе событие как другую индивидуальность” в силу чего “самотождественность индивидуальности” не может быть понята иначе, нежели “случайная”
Ф. Джеймисон (см.) постулирует в связи с этим так называемый эффект “угасания аффекта”: “в настоящем не существует более Я, чтобы чувствовать... Скорее, эти чувства - что, по Лиотару (см. - А. Г.) может быть лучше и точнее названо интенсивностями - сейчас текучи и имперсональ- ны и имеют тенденцию к подчинению особого рода эйфории”
Согласно постмодернизму, феномен Я оценивается как связанный лишь с определенной культурной традицией и поэтому исторически преходящий. По Фуко, “взяв сравнительно короткий хронологический отрезок и узкий географический горизонт европейскую культуру с 16 в., можно сказать с уверенностью, что человек это изобретение недавнее. ...Лишь один период, который явился полтора века назад, и, быть может, уже скоро закончится, явил образ человека. И это не было избавлением от давнего непокой- ства, переходом от тысячелетней заботы к ослепительной ясности... это просто было следствием изменений основных установок знания... Если эти установки исчезнут так же, как они возникли, если какое-нибудь событие (возможность которого мы можем лишь предвидеть, не зная пока ни его формы, ни облика) разрушит их, как разрушилась на исходе 17 в. почва классического мышления, тогда в этом можно поручиться - человек изгладится, как лицо, нарисованное на прибрежном песке”
Что постмодернизм умер 11 сентября 2001 года, умер, будучи всего-то лишь 29 лет от роду. Вот так вот, а я и не знал, и даже не догадывался. Так и хочется спросить – что же вы, уважаемые философы и писатели, раньше-то об этом не доложили, что же не объявили во всеуслышание.
О такой новости надо кричать! Информация о таком событии, о фактической смене эпох, должна быть озвучена. По радио, телевизору, в газетах! Обязательно надо устроить торжественные проводы (хотя, если верить философам, и так постмодерн ушел впечатляюще – с рушащимися зданиями, пожарами, взрывами, человеческими жертвами) и при этом зачитать торжественную речь в стиле «Был ли покойный П. нравственным мировоззрением? Нет, покойный П. не был нравственным мировоззрением»
Обязательно вспомнить про покойного всякие гадости вроде его беспринципности, склонности к софистике и каламбурам самого дешевого разряда, неистребимой пошлости и постоянного сведения всего на свете к пиару, деньгам и телесному низу, можно вспомнить его заигрывания с толпой, сменявшиеся приступами интеллектуального снобизма. Можно вспомнить его любовь к цитатам, переходящую порой в плагиат, легкое ироничное подтрунивание, переходящее в открытый стеб над признанными авторитетами, смешное уже хотя бы в силу того, что через какое-то время постмодернистские:критики и сами стали мега-авторитетами и уже над ними стало принято стебаться. Много чего можно вспомнить. Тем более что покойный постмодернизм сам часто говорил о себе, любимом, и даже регулярно занимался самоуничижением и саморазоблачением (впрочем, в большинстве случаев это звучало чистой воды кокетством).
Одно вот только смущает – подробно и с удовольствием обсудив смерть постмодернизма, участники дискуссии так и не смогли объяснить, что же представляет собой мировоззрение, приходящее ему на смену. Термины типа пост-постмодерн или неоархаика ситуацию как-то мало проясняют. Понятно только, что времена меняются прямо у нас на глазах, а вот куда они меняются и во что эти изменения выльются – непонятно. Вообще, большой вопрос, насколько можно анализировать эпоху, находясь внутри самой эпохи. Ситуация слишком уж уникальная. Раньше смена эпох констатировалась пост-фактум, термины типа «средневековье» или «ренессанс» появлялись десятилетия спустя после окончания этих периодов. Временные границы периодов определялись довольно смутно, в зависимости от системы воззрений того или иного исследователя. А в случае с постмодернизмом и имя ему дали практически сразу, и временные границы определили с точностью до минуты, причем с этими временными границами согласны как минимум три философа, а это большая редкость, потому что у философов как у медиков – на двух человек приходится как минимум три мнения, одно на всякий случай.
Как-то отдает такая определенность и согласованность времен искусственностью и схематичностью. Переходы между эпохами никогда не бывают такими простыми: снесли здание и все, кончилась одна эпоха, началась новая. Для учебника истории это, может быть, как-нибудь годится, но для серьезных философов как-то уж слишком просто. Сам же Эпштейн, помнится, не раз задавался вопросом о том, насколько можно считать постмодерн самостоятельной эпохой (не как мировоззрение, а именно как историческое явление), не является ли он всего лишь переходным периодом между модерном и чем-то новым, не есть ли он лишь медленное изживание модернизма путем его абсурдизации. В принципе, это логично. Не может историческая эпоха длится 29 лет, эпоха – это три-четыре поколения как минимум. За меньшие сроки никакая смена парадигмы невозможна, и даже прогресс средств информации этого факта не меняет.
А вообще – стоит посмотреть, что там будет дальше. Постмодерн так перепахал культуру, мировоззрение и все прочее, деконструировал все до такой степени, что я с трудом могу себе представить, как можно будет хоть что-то на этом пепелище возродить. Это как с искусством – после Малевича рисовать в модернистском стиле уже невозможно, в классическом – как-то неудобно, а послевоенные стили процентов на 90 состоят из дешевых каламбуров и жуткой пошлятины. И куда податься бедному художнику? А бедному философу, политологу или еще какому гуманитарному теоретику? Все исследовано, классифицировано, объяснено. Остается только изощряться в новых деконструкциях и совершенно непредсказуемых ассоциациях (да и в этом куча народу уже преуспела). И как-то мне сомнительно, что взрывы 11 сентября и прочие ужасы могут на эту ситуацию повлиять. Чтобы изменить современную культурную ситуацию, должна произойти полная смена всех возможных дискурсов, причем желательно с исчезновением большей части текстов с этими самыми дискурсами. А так как нынешняя цивилизация очень бережливо относится к сохранению написанного (нарисованного, сыгранного, отснятого), то уничтожить дискурсы окажется не так просто. Скорее можно предположить, что постмодерн включит в себя и переработает и арабов-терористов, и всяких пост- транс- и кибер- гуманистов.
Постмодерн стал частью нашей культуры, да и всей жизни и теперь от него уже не избавишься. Это как с вирусами, всякими там оспами, бешенствами и прочими – побороть их невозможно, а потому надо получить прививку и выработать к ним иммунитет. И к постмодерну надо тоже вырабатывать иммунитет. Сначала, конечно, придется им переболеть, ну а потом – исцелиться. Плохо только то, что наше общественное сознание еще к модерну иммунитет не успело выработать, а тут уже постмодерн вовсю бушует, а за ним и пост-постмодерн подкрадывается. Так что учиться надо, узнавать новое, но не забывать об основах. Хотя это, конечно, легче сказать, чем сделать.
C конца 1980-х годов писатели, художники, критики и искусствоведы предрекают смерть постмодернизма. Линда Хатчеон во втором издании «Политики постмодернизма» (The Politics of Postmodernism; 2002) заявляла: «Всё кончено». Часто говорят, что современный период, начавшийся с падения Берлинской стены в 1989 году и набирающий обороты на протяжении 1990-х и далее, развивается с огромной интенсивностью. В такие моменты возникает чувство, что, по словам рассказчика в романе Бена Лернера «22.04», мы наблюдаем «мир, перестраивающий сам себя».
Постмодернизм принимает различные обличия и, соответственно, нет абсолютного консенсуса относительно того, что он представляет собой в первую очередь. Фредрик Джеймисон характеризовал постмодернизм в книге «Постмодернизм, или культурная логика позднего капитализма» как утрату чувства истории, отсутствие чувства глубины и осмысленности и уменьшение эмоциональной вовлечённости, в то время как Брайан Макхейл в «Литературе постмодернизма» (Postmodernist Fiction; 1987) утверждал, что постмодернизм определяется через очарованность онтологией 1 Учение о сущем; учение о бытии как таковом; раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, его наиболее общие сущности и категории, структуру и закономерности . Если обобщить, постмодернизм, по существу, выглядит как исследование реальности, как с точки зрения реального мира, так и с воспроизводимой эффективности и точности художественной литературы.
Однако те силы, которые когда-то двигали постмодернизм, теперь выглядят исчерпанными. Постмодернизм отвергает основные мировые нарративы, в том числе религию, концепцию прогресса и даже саму историю. Работы Анджелы Картер, в частности, «Кровавая комната», являются ярким примером типичного постмодернистского импульса: переписывая традиционные сказки, она ниспровергает основы концепций гендера, сексуальности и женского субъективизма. В современных культурных реалиях, напротив, происходит восстановление связей с историей и возрождение мифотворчества, к чему старые постмодернисты испытывали отвращение. «Моя рыба будет жить» (2013) Рут Озеки, например, касается пересекающихся историй – среди них история японского пилота-камикадзе во время Второй Мировой войны и землетрясение и цунами 2011 года в Тохоку, в Японии. Оба этих сюжета находятся в контексте истории развития идей, а события трактуются с помощью принципов дзен-буддизма.
Постмодернизм преломляет реальность в бесконечных языковых играх, например у таких авторов, как Пол Остер, создающих иллюзии в вымышленных вселенных своих романов или как в случае Хулио Кортасара в рассказе «Непрерывность парков», где персонажи читают истории только для того, чтобы понять, что эти истории отражаются на их же уровне повествования. На первый взгляд, современные писатели используют схожий приём, чтобы стереть грань между вымыслом и реальностью, как поступает Дэвид Шилдс в своей книге «Голод по реальности» (Reality Hunger; 2010). Но когда авторы или другие элементы реального мира появляются теперь в художественной литературе – как Бен Лернер в «22:04» – их присутствие обусловлено усилением реализма, а не выпячиванием искусственности текста. Действительно, реализм вновь входит в моду вместо холодной отстраненности постмодернизма, его анти-антропоморфизма. Более того, эмоции снова играют центральную роль в художественной литературе, так как авторы настаивают на важности нашей реляционности – нашей связи как людей друг с другом в глобализирующемся мире и с вымышленными персонажами, которые являются нашими отражениями.
Кажется тогда, что возникает новая доминирующая культурная логика; мир – или, во всяком случае, литературное пространство – сейчас перестраивает себя. Чтобы правильно понять ситуацию, мы должны задать себе ряд вопросов. Первый и наиболее драматичный: «Мёртв ли постмодернизм?»; второй, следующий сразу за ним: «Если да, то когда он умер?». Критики – такие, как Кристиан Морару (Christian Moraru), Джош Тот (Josh Toth), Нил Брукс (Neil Brooks), Робин ван ден Аккер (Robin van den Akker) и Тимотеус Вермюлен (Timotheus Vermeulen) – неоднократно указывают на падение Берлинской стены в 1989 году, начало нового тысячелетия, теракт 11 сентября, так называемую «войну против террора» и войны на Ближнем Востоке, финансовый кризис и последовавшие глобализационные революции. Эти события вместе взятые означают провал и неравномерность глобального капитализма как предприятия, ведущего к последующему разочарованию в проекте неолиберального постмодерна и недавнему политическому конфликту между радикальными левыми и крайними правыми. Кумулятивный эффект этих событий – и сопутствующая ему гипертревожность, вызванная круглосуточными новостными программами – заставили западный мир чувствовать себя все более нестабильным и неустойчивым местом, в котором мы больше не можем быть беззаботными касаемо вопросов нашей безопасности и нашего будущего.
Мне кажется уместным, что Оксфордский словарь выбрал политически вовлечённую «пост-правду» как слово года в 2016 году. Распространённость этого слова – особенно в связи с нынешней политической обстановкой (Трамп, выход Великобритании из Европейского союза и новые политики в целом) – это символ современного отношения к понятию истины. Это может помочь нам думать о происходящих радикальных культурных сдвигах. В то время как модернизм был, в конечном счёте, основан на утопизме, который базировался на неких универсальных истинах, постмодернизм отвергает и деконструирует понятие истины как таковое. Приставка «пост-», как это ни парадоксально, заканчивается тем, что фокусируется на той самой концепции, которую он пытался отвергнуть. Два элемента этого слова являются, таким образом, метонимией текущего состояния; «пост» отражает затянувшееся постмодернистское недоверие, в то время как «правда» по-прежнему остаётся важным критерием.
Существует множество терминов для этой новой культурной логики, этого сдвига в господствующей системе убеждений, например: альтермодернизм, космомодернизм, цифромодернизм, метамодернизм, перфоматизм, пост-диджитал, пост-гуманизм, и неуклюжий пост-постмодернизм. Есть расхождения и совпадения между этими концепциями; они дополняют друг друга так же, как и соперничают. Даже при таком раскладе общие черты этих форм являются наследием модернистских и постмодернистских стилистических практик и реабилитированного этического сознания. «22.04» Лернера приводит нам отличный пример. В одном эпизоде рассказчик Бен только что закончил свою месячную смену в пищевом кооперативе Парк-Слоуп. Бен, как и многие члены кооператива, одновременно проявляет чувство гордости за свой экологичный, антикапиталистический этос 2 Стиль жизни какой-либо общественной группы, ориентацию её культуры, принятую в ней иерархию ценностей , и чувство презрения за негибкость кооператива в удовлетворении личных обширных планов переводов по рабочей смене. Упаковывая сушёные манго, Нур, член его коллектива, обнаруживает, что мужчина, которого она считала своим отцом, биологически таковым не является. Это имеет существенные последствия для её самоидентификации, особенно из-за того, что её арабо-американская идентичность была основана на ливанском происхождении её отца.
Несмотря на очень личную и значительную природу истории Нур, она прерывается отступлениями. Рассказчик неоднократно отвлекается от повествования ремарками и замечаниями к повествованию, такими как: «…сказала Нур, хотя и не такими словами». Это основной приём постмодерна - рекурсивное обрамление и рассказывание истории в истории, не служащее саморефлексирующему притворству; но также это путь демонстрации герменевтической функции историй в нашей памяти, в нашей самоидентификации и наших отношениях с другими. Повествование обрывается, когда Бен переводится с упаковки манго в другой отдел. Всё ещё не зная, чем заканчивается история Нур, Бен ошибочно приходит к заключению, что это история о исламофобии. Это решение принято под влиянием основного рассказчика Лернера, самоуверенного, но порочного, выглядящего символом распространённого западного общественного лицемерия и сделанного ещё более выпуклым именно потому, что читатели должны интерпретировать этого персонажа как альтер-эго автора. И вновь то, что выглядит как постмодернистская метатекстуальность – персонаж, представляющий автора в художественной литературе, – используется не для достижения постмодернистского эффекта. Типичный постмодернистский облик автора сокращает его или её до языкового обозначения онтологической невозможности авторского присутствия в художественной литературе. А вот автор Лернера чувствует себя в произведении как дома.
Позже, размышляя об истории Нур, Бен желает найти способ утешить её, «чтобы это не звучало как бестактный бред коллеги». Бен обобщает свои чувства: «Моя личность растворяется в личности столь абстрактной, что каждый атом, принадлежащий мне, всё равно что принадлежал Нур, образ моего мира перестраивал себя вокруг неё». В «22.04» это переустройство мира вращается вокруг оси человеческой субъективности, задумывается как тесно эмоционально связное.
«22.04» - лишь один пример из современной литературы, который формулирует настроения за пределами постмодерна. Это может быть характеризовано как «автохудожественная» литература, жанр, который интегрирует автобиографическую прозу в художественную, и который расцвёл вместе с так называемым мемуарным бумом. Жанр, на первый взгляд, может показаться строго постмодернистским, таким же образом поступающим с фрагментацией субъекта и размыванием онтологической границы между фактами и художественным вымыслом. Современный автохудожественный нарратив не игра сам по себе, но служит увеличению реалистичности текста и захватыванию социологических и феноменологических измерений частной жизни. «Конец Эдди» Эдуара Луи (Édouard Louis. The End of Eddy; 2017) – это как раз такой случай, детализация в художественном произведении собственного опыта жизни автора как женоподобного юноши в небольшом рабочем поселке в северной Франции.
Другие недавние литературные тенденции, такие, как рост популярности исторических романов, возрождение реализма и более тесное сотрудничество литературы с визуальной и цифровой культурой, также являются символами этого сдвига. В то время как Дэвида Фостера Уоллеса часто приводят в качестве литературного деятеля, который первым издал призыв к оружию против иронизирующей постмодернистской поп-культуры, многие другие современные писатели присоединяются к нападкам: среди них Бен Лернер, а также Дженнифер Иган, Дэйв Эггерс, Джошуа Феррис, Джонатан Франзен, Шейла Хети, Кадзуо Исигуро, Рут Озэки, Али Смит, Зэди Смит и Адам Терлвелл. «Кабум!» Терлвелла (Kapow! 2012), например, рассказывает о революциях «арабской весны», исследует их историчность и значимость путём сравнения с французской революцией. Рассказчик осознанно смешивает высокие и низкие культурные отсылки, придаёт особое значение правдивости освещения СМИ мировых событий, и рассматривает целесообразность написания своего собственного арабского романа.
В то же время наша культура сохраняет многие темы и проблемы, которые заботили писателей предыдущих поколений; едва проглядываются признаки радикального литературного авангарда, сметающего старое, чтобы освободить место для нового. Постмодернизм, может быть, не совсем кончился, как любят говорить некоторые критики, но его позиции ощутимо пошатнулись. Его приёмы стали настолько обыденными, что были поглощены мейнстримом, коммерческой и популярной культурой. Постмодернизм утратил своё значение отчасти потому, что он перенасытил рынок. И с гибелью дурачества и кривляний постмодернизма нам лучше создать литературу, которая займётся реальными проблемами со всей серьёзностью. Эта новая литература может добросовестно изучать сложные и постоянно меняющиеся кризисы – расовое неравенство, капитализм и изменение климата, – на которые легко закрыть глаза.
Первое, о чем говорят и думают в связи с постмодернизмом, – его "вторичность": автор строит новый текст (в связи с объявленными постмодернизмом "смертью автора" и "смертью текста" можно сказать: бывший автор строит бывший текст) не из "сырого" внетекстового материала, а преимущественно из "вареного", взятого из других построений 1 . Но вторичность сама по себе не может быть отличительным признаком постмодернизма: по густоте и конструктивной активности цитат вряд ли кто-нибудь из постмодернистских авторов сравнится с Данте (да и вообще со средневековым книжником); "вторичными" могут быть названы целые эпохи – поздняя античность, барокко... Многие авторы классического модернизма (стоит вспомнить Т.С.Элиота или О.Э.Мандельштама) обладали такой виртуозностью обращения с субтекстами – культурными отсылками, прямыми и скрытыми цитатами, вариациями на заданные предшественниками темы – какой постмодернизм не обладает. Если же говорить о качестве эрудиции, о ее глубине и нетривиальности, то нетрудно заметить, что такой образцовый текст постмодернизма, как "Имя розы", в своем исследовании средневековья далеко уступает традиционалистскому "Избраннику" Томаса Манна.Так называемая вторичность – скорее норма искусства, чем что-то другое. Обращают на себя внимание скорее локальные нарушения этой нормы – в радикально авангардистских течениях, начинающих построение нового художественного языка с нуля, в эпоху натуралистического реализма, наконец, в соцреализме, для которого всякая "книжность", "ученость", "литературность" была отрицательным качеством. Не вторичность отличает постмодернизм, а особый сдвиг в обращении с готовыми, чужими текстами (об этом дальше).
Другая характеристика, также необоснованно привязанная к постмодернизму, – его аналитичность, открытая связь с теорией (автор и теоретик соединяются в одном лице, как в случае Умберто Эко, Юлии Кристевой и других). В действительности, чурание аналитизма – тоже скорее исключение в истории искусства (крайний случай такого чурания – эпигонский романтизм, требующий от своего художника "не ведать, что творишь"; именно этот миф Артиста был усвоен соцреализмом).
Ближе к характерности постмодернизма мы подойдем, если будем иметь в виду своеобразие его теоретического субстрата – структурализма. Структурализм (особенно его западная версия) существенен здесь как метод отстранения, "освобождения от языка", попытка говорить "не языком, а о языке" (Ролан Барт). Р.Барт сравнивает структуралистское снятие культуры с античным снятием природы, в которой за непосредственной данностью начинает искаться ее "смысл"; так же, полагает Барт, поступает и новое творческое мышление, структуралистское, с осоциаленной природой-культурой.
Перспектива, в которой постмодернизм видится из нашей (российской) посттоталитарной культуры, смещает его черты. Нам трудно воспринять его исторически, как метод, сменивший авангард и модернизм. В силу оборванности авангардной и модернистской традиции, местные сочинения, противопоставляющие себя недавней официальной версии искусства, представляют из себя смесь всего на свете, всего, недавно запрещенного: вульгарной версии авангарда, примитивной мистики раннего модернизма, пародии, низовой сатиры... То, что наша местная школа постмодернизма отличается от своего образца, не обязательно значит, что она слабее его: может быть, и наоборот. Во всяком случае, российский постмодернизм энергичнее западного; он переполнен энергией отвращения, злобы, презрения. И все-таки, говоря о постмодернизме, разумнее иметь в виду его оригинальную версию. При всей своей принципиальной пестроте, противостоящей былой "органической цельности" художественной вещи, постмодернизм последователен в одном: в авторском отношении к собственному тексту и вообще к изображаемому миру. Это отношение не допускает вообще никакого пафоса (обличительного, восхищенного и т.п.). Постмодернистская отчужденность меньше всего дается у нас – и еще бы! Нужно было так устать от форсированной громкости авангарда, чтобы захотеть этой прохлады, этого "удовольствия от текста".
Постмодернизм – не только креативный метод (сама креативность стоит в нем под вопросом), это и навык восприятия: умение видеть "чисто эстетически" внеэстетическую вещь (умение, развитое уже авангардом); умение перекодировать одну эстетику в другую, более "широкую" и "миролюбивую" (например, получать удовольствие, близкое комическому, от фашистской и социалистической художественной пропаганды и под.). Таким образом, задним числом к постмодернистским могут быть отнесены сочинения совершенно иного замысла (например, эпопея А.И.Солженицына "Красное колесо" в некоторых прочтениях). Тем самым, постмодернизм без берегов ускользает от всякого определения. Заметим, что прочесть любой текст как постмодернистский – значит, освободиться от него, перестать испытывать по отношению к нему дискомфортные чувства, перестать принимать его посылки и художественные амбиции всерьез. Это очень важно. Принятый как постмодернистский, текст (и любая художественная конструкция) оказывается оправданным в каждой своей детали – и несущественным в своей интенции: как сплошной эстетический факт. Естественно, эстетическим фактом может стать не только текст, но и отсутствие текста. Крепости нового эстетизма очень прочны: никакой толстовский здравый смысл, никакой андерсеновский мальчик не поколеблет их, заметив, что "король-то голый!". Постмодернистская игра мгновенно включит своего отрицателя как еще одно действующее лицо "акции", как предусмотренную роль.
Если говорить серьезно, постмодернизм свидетельствует о кризисе символических форм, о кризисе языка в самом широком смысле – точнее, он закрепляет состояние крушения норм как культурную норму. Он У-СВОЯЕТ отчуждение языка – и отчуждение вообще как единственное СВОЕ для человека состояние.
Тема "невозможности отличить подлинник от подделки" – одна из основных тем и в "Имени розы". Как отличить истинную святость от патологической экзальтации и свирепого мракобесия? Главный герой, детектив-бэконианец, говорит, что для него это различение невозможно; он оставляет осторожное допущение, что это было возможно для святых; но эпоха, в которой разворачивается действие "Имени розы", дана как время невозможности появления святых, и в теоретической мысли постмодернизма (тема "симулякров"). Если быть последовательным, речь идет о невозможности всякого различения, всякого восприятия ценностей, о том, что сознанию, которое называет себя современным, не дается иерархия. Символические формы в нем утратили связь с тем, что они символизируют; они стали целиком социальными, конвенциональными знаками без значений)или с "опасными", "вредными" значениями, которые необходимо деконструировать, демифологизировать и т.п.: ведь язык, в этой мысли, не открывает реальность, а заслоняет ее, навязывая свои интерпретации; прозрачных высказываний нет, все они содержат ту или иную готовую интерпретацию, насилующую восприятие).
Новое отношение к "чужому", от которого необходимо освободиться, прямо противоположно той традиционной "вторичности" искусства, о которой речь шла в начале, – той, что нашла выражение в формуле русского поэта начала прошлого века: "Чужое – мое сокровище" (К.Батюшков) или в строфе Мандельштама:
И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.
Там "чужое" становилось "своим", "моим". Постмодернизм же и "свое" слышит как "чужое", как то, от чего требуется освободиться. Что до "сокровища", то о нем можно говорить, пока есть ценное и бесценное, явное и скрытое... А этого всего, говорят, больше нет.
Радикальный авангард, осознав кризис традиционного языка, его истрепанность и опустошенность, пытался освободиться от него, построив взамен новый язык некоторых первичных форм: начиная с нуля, на голой земле – и часто совпадая при этом с исторической архаикой, а то и сознательно используя ее. При этом уже здесь происходило опустошение знака, поскольку мифическая или магическая мотивированность архаичных знаков для нового индивидуалистского художника была уже непроницаемой: особенно показательны здесь скульптурные неоархаические формы модернизма – бывшие идолы, бывшие вотивные изображения оказались полностью изъяты из своего сакрального пространства. Говорение на новых – или изначальных языках обрекало авангардистов на социальное одиночество, пока публика не привыкла к любого рода смещенным дискурсам, перестав заботиться о двух вещах: что это значит? и: на что это – во внеэстетической области – похоже? Но такое конструирующее освобождение не принесло свободы: автор, чей энтузиазм по поводу собственного языка был слишком очевиден, оставался, тем самым, пленником языка.
Постмодернизм открыл другой способ освобождения от языка: всеприятие, неразличающее приятие всех прежде несовместимых знаковых систем. Общим значением этой суммы стало в идеале Ничто. Если в постмодернистском тексте, помимо Ничто, присутствует что-то еще, какой-то вопрос, занимающий автора, какая-то формальная новизна, на которой он настаивает, – мы, как правило, будем поражены мелкостью и инфантильностью этих "проблем" (вроде проблемы аутентичного у Эко, о которой речь шла выше). Постмодернист, то есть человек, пришедший после всего культурного труда тысячелетий, занят такими "проблемами"? Нет, все-таки лучше не удаляться от Ничто...
Постмодернизм пытается сделать что-то с отчуждением, у-свояя его, то есть, перестав переживать его как аномальное для человека состояние. Он строит не просто из "чужих", но из отчужденных фрагментов – и строит отчужденно. Великий покой несет постмодернизм, конец тревоги. Он обещает, что требование различения, иерархического расположения вещей, выбора – что это требование больше не действует. Смерть истории. Смерть трагедии. Смерть автора. Смерть текста. Смерть языка. Смерть новизны. – И смерть всех этих смертей. Ведь, если бы они были реальны, эти смерти, они внушали бы страх, скорбь, потерянность, как было у экзистенциалистов. Но нет, они внушают лишь "удовольствие от текста". И это странное бессмертие, состоящее из смерти, возведенной в квадрат, – не что иное как новая утопия.
Как? Разве с утопизмом не связаны совсем иные ассоциации? Разве не антиутопизм, среди другого, отличает постмодернистское настроение?
Утопия, которой был заряжен авангард (особенно русский авангард) – активистская утопия, пафос всеобщего переустройства, насильственного утверждения новой, небывалой и одной для всех нормы. А скептичный по отношению ко всякой активности и новизне, всеприемлющий, чуждый унификации пост-модернизм... И, тем не менее, то, что он несет, его message – оборотная сторона той же утопии. Можно назвать ее пан-топией, но это дела не меняет.
На мой взгляд, точка опоры и той, и другой утопии – тема силы . Пафос овладения некоей космической силой, насилие над естественными законами – всем (а нам в России особенно) знакомый образ утопизма. Новый его образ – попытка игры в мир, в котором сила вообще не действует, некий запредельный пацифизм.
Что ушло из опустошенного знака, из пустой символической формы? Сила связи , сила тяготения смысла и вещи, человека и смысла.
Что мешает отличить подлинник от симулякра? Исключение из восприятия и рассмотрения силы, присутствующей в подлиннике и отсутствующей в симулякре. Что не позволяет расположить вещи в иерархии? Страх признать реальность силы, подчиняющей что-то чему-то. Что позволяет отказаться от выбора между "злом" и "добром" – и даже отнесения чего-либо к "злу" или "добру"? Отказ принять зло и добро как вещи сильные , а не условные договорные категории.
Страх перед силой , иррациональной вещью, которую воспринимает в человеке не рассуждающее аналитическое начало, а что-то иное; страх перед любым проявление власти – вещи тоже иррациональной – этот страх слишком понятен после всех эксцессов иррационального, после всего насилия, всех кошмаров, провоцированных темой власти в уходящем столетии.
И тем не менее, попытка тотального либерализма – попытка мира вне силы, вне различий, вне сопротивления и влечения, вне выбора и самоотдачи чему-либо, кроме своего Ничто, – утопия не хуже прежней. Не менее прежней она противоречит порядку вещей, физике мира и человеческому заданию. Не нужно особой прозорливости, чтобы сказать, что последствия этой утопии должны быть не менее тяжелы.
И, пока культура в своем "пост-историческом" состоянии тиражирует отражения отражений, запрещая самый вопрос о том, что же в них отражается, – сила, изгнанная в дверь, возвращается в окно. Уже вне символических форм, уточнениями и исследованиями которых занимались века, вне традиционных языков, сила (без которой существование человека превращается в анабиоз) входит, простая, как мычание, через манипуляции экстрасенсов, массовые сеансы новых шаманов – которые вне всякой культурной опосредованности "подсасываются" к тому, что они называют Космосом… Это другая тема, но я хочу заметить, что между опустевшей культурой форм и симулякров, постмодернизмом, и внеформальными, докультурными взрывами этой "энергии" существует взаимодополняющее отношение.
Я хочу уточнить, что критика постмодернизма в моих рассуждениях – ни в коей мере не критика из-за спины, из прошлого, с точки зрения каких-то более доброкачественных творческих эпох. Происходящее неотменимо, мы современники постмодернизма и не можем позволить себе этого не знать. Но это не мешает нам попытаться оценит его – и наши возможности.
Мне представляется, что творческий ответ на вызов постмодернизма должен всерьез учитывать то, на чем настаивает постмодернизм: отчуждение языка. Полагаться на действие готовых исторических форм идей, готовых словарей вряд ли приходится. В 1922 году О.Мандельштам писал: "Куда все это делось – вся масса литого золота исторических форм идей? – вернулась в состояние сплава, в жидкую золотую магму... а то, что выдает себя за величие, – подмена, бутафория, папье-маше". Новые именования, новые утверждения непременно должны быть своими , возникающими из глубины своего, из этой расплавленной золотой магмы. Это требование было действительным всегда для любого ответственного высказывания, но никогда его императивность не была такой решительной. Только то, что возникает из глубины личной работы, не окажется сейчас бутафорией и папье-маше. И только с возрождением своего может быть установлено достойное отношение с чужим и отчужденным.
Презумпция- метафора философии постмодернизма, осмысливающая процесс существования текста как независимую от внешних воздействий, постоянную и автономную процедуру генерации имманентно присущих ему множественных смыслов. Концепт “С. А.” отражает презумпцию постмодернистского взгляда на мир, согласно которому текст (см.) не центрирован каким бы то ни было над- текстовым детерминантом.
Парадигмально значимая идея о “С. А.” была направлена на конструктивное преодоление в режиме деконструкции (см.) основополагающего постулата классического философствования, неразрывно соотнесенного с фигурой Автора (от греч. autos - сам). Согласно философии классического типа, результаты какой-либо деятельности (в первую очередь, творческой) атрибутивно связаны с определенным (индивидуальным или коллективным) субъектом, осуществляющим эту деятельность. Данная модель восходит к античной натурфилософии, где фигуры “нуса” и “логоса” функционально занимают смысловую позицию субъекта в статусе носителя как исходного импульса космогенеза, так и его логического сценария. Позже Ж. Деррида (см.) обозначит эту установку философии Запада как неизбывное присутствие в ней фигуры “трансцендентного Автора” Соответственно, единственной и исчерпывающей причиной текста выступал в классическом европейском интеллектуализме именно его Автор. (Это, в частности, нашло выражение в сложившемся двойном значении англ. author “творец” и “виновник”.)
В общих чертах концепт “Автора” был сформулирован еще христианской экзегетикой, в границах которой была разработана каноническая система правил определения авторской принадлежности текста. В частности, Иероним Блаженный, в миру Евсевий Иероним Софроний (ок. 340 - 420), один из наиболее выдающихся учителей христианской Церкви, предложил соответствующую систему критериев для установления подлинного Автора того или иного священного текста:
2) догматическое созвучие этого текста общей теологической концепции того Автора, которому приписывается данный текст;
3) временное совпадение предположительного хронологического интервала написания данного текста, определяемого как содержательно (по упоминаемым реалиям), так и формально (по признакам языкового характера), с периодом жизни субъекта, предполагаемого в статусе Автора данного текста.
В рамках философской герменевтики фигура “Автора” обрела ключевую роль в процессе интерпретации (см.) текста: адекватное осмысление и истолкование последнего полагается возможным лишь посредством реконструкции “исходного авторского замысла” Подразумевалось воспроизведение при помощи личного опыта интерпретатора фундирующих этот “замысел” фрагментов индивидуально-психологического, социального и культурного опыта Автора. По мере эволюции герменевтических подходов данная идея (в облике от “психологического аспекта интерпретации у В. Диль- тея до “биографического анализа” у Г. Миша) обрела статус единственно возможной стратегии понимания текста.
В дальнейшем особая значимость фигуры “Автора” в качестве носителя текстуальных смыслов была акцентирована попытками разработки процедур постижения специфической разновидности текстовых массивов повествований- рассказов, или нарративов (см.). Присущее Автору знание о предстоящей развязке событий, положенных в основание повествования, ставило его намного выше, чем даже их “героя” Непосредственно вовлеченный в осуществление событийности, “герой” был, тем не менее, лишен представления о тенденциях ее хода и перспективах ее финала.
Согласно формулировке Р Барта, который одним из первых заявил о “С. А.”, классической философией “принимается за аксиому обусловленность произведения действительностью (расой, позднее - Историей), следование произведений друг за другом, принадлежность каждого из них своему автору” По мысли Барта, если “произведение отсылает к образу естественно... развивающегося организма” текст находится в не эволюционном процессе трансформаций, и ключевой “метафорой” их может служить не “цепочка” но “сеть” Согласно Барту, “если текст и распространяется, то в результате комбинирования и систематической организации компонентов”
Барт противопоставлял традиционную, классическую (“университетскую”) и постмодернистскую (“имманентную”) версии отношения к тексту. Он усматривает принципиальное отличие между ни^и в том, что если “имманентное” прочтение текста предполагает плюралистическое самодвижение смысла, то традиционный “критик исполняет произведение, как палач исполняет приговор” По оценке Барта, истоки “университетской критики” коренятся именно в традиционном понимании детерминизма: “чем вызвано... неприятие имманентности (в значении “постмодернизма”
А. Г .)? ...Возможно, дело в упорной приверженности к идеологии детерминизма, для которой произведение - “продукт” некоторой “причины” а внешние причины “причиннее всех других”
Постмодернизм отверг классическую интерпретацию текста как произведенного Автором “произведения”: по Барту, “присвоить тексту Автора - это значит... застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо” В постмодернизме дискурс автора децен- трируется. Фигура Автора в статусе “владыки” “Означаемого/Истины” расщепляется. Автор, равный, согласно Барту, “Богу-Семиургу”, исчезает.
В границах постмодернистского подхода фигура Автора обретает принципиально нетрадиционный статус при сохранении всех привычных параметров индивидуализации. С одной стороны, авторское имя сохраняет характеристики имени собственного. С другой стороны, в рамках подходов постмодерна авторское имя собственное отнесено не столько к некой персоне, сколько к приписываемому этой персоне текстовому массиву. Таким образом, главное внимание уделяется не столько биографии индивида - творца текста, сколько способу бытия данного текста. В рамках постмодернистского подхода Автор оказывается далеко не тождественным субъекту, подготовившему или непосредственно подписавшему тот или иной текст. Авторство, таким образом, может быть “присоединено” далеко не к любому тексту. Речь идет не только о специфических документах: метриках, деловых бумагах или записях о назначении встречи. Авторство может быть атрибутировано не всякому произведению, поскольку само это понятие подвергается в постмодернизме не только кардинальному переосмыслению (см. Конструкция), но и радикальной критике.
Фигура “Автора” мыслится постмодернизмом как результат особой процедуры (истолковывающей по своей природе и сравнительной по своему механизму), предполагающей осмысление текстов как особых дискурсивных практик. Автор, согласно М. Фуко, должен пониматься “не как говорящий индивид, который произнес или написал текст, но как принцип группировки дискурсов (см.
А. Г.)у как единство и источник их значений, как центр их связности” Или, по мысли Фуко, “автор - это принцип некоторого единства письма” и фигура “Автора” “характерна для способа существования, обращения и функционирования дискурсов внутри того или иного общества” По мнению Фуко, авторское имя - форма интеллектуальной собственности, оно “обозначает появление некоего единства в дискурсе и указывает на статус этого дискурса внутри общества и культуры” Следовательно, автор “является определенным функциональным принципом, по которому в нашей культуре ограничивают, исключают, выбирают” т. е. по мнению Фуко, оказывается фигурой идеологического порядка.
1) функция классификации (разграничения и группировки) текстов,
2) установление отношений (соотношений) между текстовыми массивами,
3) выявление посредством этого определенных способов бытия дискурса.
По оценке Фуко, “Гермеса Трисмеги- ста не существовало, Гиппократа тоже в том смысле, в котором можно было бы сказать о Бальзаке, что он существовал, но то, что ряд текстов поставлен под одно имя, означает, что между ними устанавливаемо отношение гомогенности или преемственности, устанавливаема аутентичность одних текстов через другие, или отношение взаимного разъяснения, или сопутствующего употребления”
Постмодернизм выделяет фигуры “Авторов” двух различных типов, дифференцируя Автора, полностью вовлеченного в определенную дискурсивную традицию, с одной стороны, и Автора, находящегося в так называемой “трансдискурсивной позиции” (см. Трансдис- курсивность) с другой. Последний характеризуется тем, что не только выступает создателем собственных текстов, но и инспирирует, провоцирует возникновение текстов других Авторов, являясь инициатором нового по отношению к существующим типа дискур- сивности. Фуко именует такого Автора - istraurateur (“ учредитель” “установитель”) - в отличие от fondateur (“основателя”). “Основатель” являет собой основоположника традиции дисциплинарного знания, предполагающей на всем протяжении своего развития сохранение доктринальной идентичности.
В свою очередь “учредитель” “установитель” не только создает своим творчеством возможность и правила образования иных текстов в рамках конституируемого типа дискурса, но и формирует простор для формирования принципиально новых текстов. Последние способны отличаться от произведенных “учредителем” и даже могут вступать с ними в концептуальные противоречия. Тем не менее, они сохраняют релевантность по отношению к исходному типу дискурса. Авторами-“учредителями” Фуко назвал основателя психоанализа 3. Фрейда и философа К. Маркса. По оценке Фуко, в рамках как психоанализа, так и марксизма имеет место не просто игра по правилам, сформулированным их основоположниками, но в полном объеме процессы “игр истины” (см.). Тем самым при радикальной трансформации исходных оснований неизменно осуществляется регулярное “переоткрытие Автора” “возврат” к его изначальному дискурсу, приводящий “к своего рода загадочной стыковке произведений и Автора” В развитие данного подхода на смену понятию “Автор” постмодернистская философия выдвигает термин “скриптор” (см.), элиминирующий амбиции субъекта на статус производителя или хотя бы внешней детерминанты текста.
Важнейшим выводом из концепта “С. А.” явилась идея о парциальном порождении смысла в процессе чтения (см.), понимаемого Ж. Деррида как “активная интерпретация” дающая “утверждение свободной игры мира без истины и начала” В таком же концептуальном контексте Дж. X. Миллер сформулировал тезис о Читателе (см.) как источнике смысла: “каждый читатель овладевает произведением... и налагает на него определенную схему смысла” По Барту, фигура читателя конституируется как фигура “не потребителя, а производителя текста”
Тем не менее, постмодернизм вовсе не стремится увязать процесс генерации смыслов текста с фигурой Читателя в качестве ее субъекта, или внешнего причиняющего начала. Очевидно, что в этом случае “Читатель” стал бы эквивалентен фигуре “Автора” Попытки отыскать “основополагающего субъекта”, которому вменялось бы в обязанность “вдыхать жизнь в пустые формы языка” были однозначно отнесены Фуко к философии традиционного (“классического”) плана. Постмодернизм же, по П. де Ману, утверждает “абсолютную независимость интерпретации от текста и текста от интерпретации” Текст, согласно де Ману, “не продуцируется деятельностью сознания субъекта - автора или читателя” но является имманентной процессуальностью языка. По еще более жесткой оценке Деррида, реально имеет место не “интерпретационная деятельность субъекта”, но “моменты самотолкования мысли”
Подобно этому, способность производить “эффект смысла” Фуко признавал за “структурами языка”, обладающими, по Ю. Кристевой (см.), “безличной продуктивностью”, порождающей семантические версии означивания (см.).
Согласно Р Барту, в аспекте генерации смысла как чтение, так и письмо - это “не правда человека... а правда языка”: “уже не “Я”, а сам язык действует, “перформирует” По оценке Барта, современная лингвистика показала, что “высказывание... превосходно совершается само собой, так что нет нужды наполнять его личностным содержанием говорящих” По формулировке Барта, фигура читателя может быть рассмотрена в качестве “личного адреса” ничуть не более, нежели фигура Автора, ибо “читатель - это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст” “Субъект высказывания” с точки зрения Барта, “ни в коем случае не может совпадать” с “субъектом совершившихся вчера поступков”: содержащееся в дискурсе “Я” более не является местом, где восстанавливается человеческая личность в непорочной цельности предварительно накопленного опыта” Из этого следует, что какова бы ни была цель дискурсивной процедуры, всегда - и “в рамках письма”, и “в рамках чтения” “субъект... не бывает экстерриториальным по отношению к своему дискурсу” (Барт). Более того, по мнению Барта, фактически “ни в филогенетическом, ни в онтогенетическом плане человек не существует до языка” в плоскости познания это означает, что “язык учит нас понимать человека, а не наоборот” И, в конечном итоге, вербальная сфера, по Барту, есть “та область неопределенности, неоднородности и уклончивости, где теряются следы нашей субъективности”
В целом в границах постмодернистской философии концепт “С. А.” служит средством радикальной критики символического и персонифицированного авторитета, предполагающего существование заданного дискурса легитимации и не допускающего корректировки и смены существующих метанарраций (см.). Тем самым фигура “Автора” отвергается культурой постмодерна как средоточие и мета власти в ее метафизическом и социально- политическом измерении.
См. также: Экспериментация.